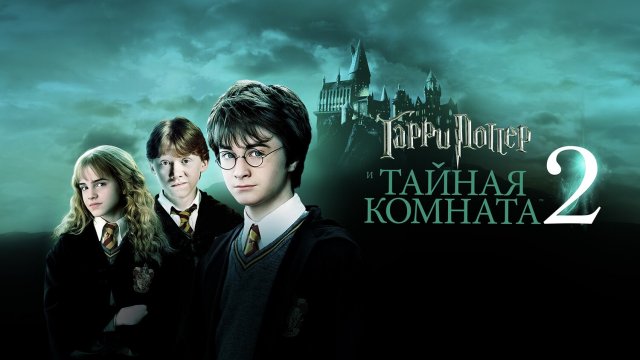Лекция 6 курса "Альберт Эйнштейн и революции в физике" (осень 2024)
Описание
1. Что такое «прогресс» в науке? Меняют ли революции в науке структуру знания? Что происходит с научными революциями в ходе научного прогресса?
2. История науки есть часть человеческой истории. Наука воплощена в записи и институты, которые позволяют передавать знания от поколения к поколению, что обеспечивает непрерывность истории науки.
3. Однако прогресс общества не обязательно связан с наукой. Наука – только одна из характеристик человеческой культуры, не обязательно главная, она может и исчезнуть, если исчезает общество. Так исчезло античное образование с крахом Римской империи.
4. Парадокс научного прогресса: с одной стороны, этот феномен есть результат некоторых исторических условий, которые не подчиняются никакому известному закону и вполне могли бы исчезнуть, как исчезло многое другое. С другой стороны, вот уже 250 лет этот феномен является мотором общественного развития. То есть научный прогресс одновременно и хрупкий, и непоколебимый.
5. Этот парадокс может быть продемонстрирован на примере многих ситуаций из истории науки. Прорыв в научном знании зависит от многих обстоятельств: экономические отношения, технические предпосылки, национальные обычаи, стили мышления, духа времени, от персональных предпочтений и настроения ученого… То же можно сказать и о прорывах в музыкальном и любом другом творчестве. Наука зависит от краевых условий и случая. Но от других проявлений наука отличается накопительным, кумулятивным эффектом: каждый ученый считает, что он продвинулся чуть дальше своего предшественника. Это выразил Ньютон: «Я смотрел дальше (видел больше), потому что стоял на плечах гигантов».
6. С этой точки зрения наука движется шажками – от одного достижения к другому, разве что на время прерываясь внешними возмущениями – войнами, революциями и т.п. Казалось бы, тут нет места революциям.
7. Томас Кун в 1962 году выпустил книгу «Структура научных революций», где связал понятие революции с категорией «парадигма». Революции в науке сходны с политическими и культурными переворотами и тоже зависят от психологических и социологических факторов. Научная история есть часть культурной истории. Но в отличие от политических и культурных прорывов, в науке непоколебима картина безостановочного движения вперед. Как смена парадигм (по Куну) согласовывается с этим кумулятивным характером науки – непонятно!
8. Откуда же берутся «скачки» в развитии, которые мы называем революциями? В биологической аналогии эволюция видов тоже протекает до поры до времени непрерывно, но потом происходит рождение нового вида.
9. Изменчивость научной системы определяется иначе: это следствие разведки ее собственных границ с помощью имеющихся в наличии материальных средств. Подобная саморазведка производит устойчивое внутреннее разделение рассматриваемой научной системы. Растущая внутренняя сложность системы увеличивает возможности получать результаты (экспериментальные или теоретические), а это устойчиво расширяет область применения научной системы.
10. Другой способ формирования новой научной системы – рефлексия, то есть думание о думание, мысли о мыслях. Часто при таком рассуждении рождается новый фундамент системы – сама система остается, но базис у нее другой. Это можно назвать «постановкой системы с головы на ноги», примером является процесс Коперника.
11. Таким образом произошло переформирование доклассической физики Галилея, целиком укорененной в физике Аристотеля, в классическую физику Ньютона. Галилей не смог сделать решающего шага к физике Ньютона и решить задачу о форме траектории брошенного камня. Это сделал ученик Галилея, отбросив гипотезу Аристотеля и взяв за основу закон инерции своего учителя. И произошла научная революция 17-го века.
12. Примерно так же и Эйнштейн в 1905 году в качестве исходного пункта новой теории взял то, что его предшественники держали в качестве граничных (маргинальных) понятий. Это произошло из-за рефлексии Эйнштейна, размышлявшего о размышлениях других. При этом изменилось представление о принципиальных вещах: пространстве, времени, одновременности.
13. Случай Эйнштейна иной: он не просто сделал шажок вперед по сравнению с движением Лоренца и Со. Он перевернул наши представления о пространстве и времени. Он ввел два постулата – постоянство скорости света и принцип относительности – и получил преобразования Лоренца как аналог преобразований Галилея. У Лоренца была «теорема о соответствующих состояниях»: уравнения электродинамики остаются без изменения, если ввести преобразования Лоренца. Кроме того, измерения скорости света в движущейся системе дает тот же результат, что и измерение скорости света в системе неподвижного эфира. А Эйнштейн перевернул эти рассуждения, как Коперник перевернул геоцентрическую систему. То, что у Лоренца «дано», у Эйнштейна «требуется доказать», и наоборот, то, что у Лоренца «требуется доказать», у Эйнштейна «дано».
Рекомендуемые видео